Бессарабия 1917 года. История Гастона Петера, солдата свидетеля конца
Царской России
Царской России
Статья, написанная по повести Гастона Петера, была опубликована в произведении "Свидетельство о моем веке" в 1983 году (Обернэ, Франция).
Историк Фабьен Шаффер (Fabien Schaeffer), занимающий должность советника по культуре в Делегации Совета Европы в Молдове, поделился с locals историей об эльзасском солдате Гастоне Петере, оказавшемся в Бессарабии 100 лет назад.
К началу 1917 года Бессарабия уже полтора года находилась в эпицентре первого мирового конфликта. 250 тысяч местных мужчин было мобилизовано в царскую армию, сражающуюся на стороне сил Антанты против держав Тройственного Союза. Во французской исторической литературе редко встречаются свидетельства и описания Бессарабии времен Первой мировой войны. Гораздо больше доступной информации связано с периодом, последовавшим за перемирием, поскольку в 1919 году в Бессарабии были сосредоточены французские войска Дунайской армии.
С августа 1914 до начала 1918 года исторические документы, в основном, опираются на данные французских военных миссий в России и Румынии. Кроме официальных докладов о ситуации в Бессарабии, источники содержат ряд прямых свидетельств о ситуации в этой провинции, собранных во время пребывания представителей миссий в Кишиневе. В то время Кишиневский вокзал был остановочным пунктом на пути из Румынии в Россию и обратно.
Немногочисленны и другие, еще более редкие свидетельства, сохранившиеся до наших дней. Одно из них – воспоминания Гастона Петера, эльзасца, немецкого солдата, позже румынского пленника, репатриированного во Францию в июле 1917 года. Гастон Петер попал в Румынию в сентябре 1916 года с французского фронта. Из лагеря немецких и австро-венгерских заключенных он был возвращен в строй сотрудниками миссии чехословацкого корпуса и отправлен вместе с другими эльзасцами и лотарингцами в Кишинев. Его свидетельство уникально с нескольких точек зрения. Во-первых, это воспоминания обычного солдата, а не офицера. Во-вторых, его пребывание в Кишиневе продлилось более пяти месяцев и совпало с февральской революцией и концом царского режима.
С августа 1914 до начала 1918 года исторические документы, в основном, опираются на данные французских военных миссий в России и Румынии. Кроме официальных докладов о ситуации в Бессарабии, источники содержат ряд прямых свидетельств о ситуации в этой провинции, собранных во время пребывания представителей миссий в Кишиневе. В то время Кишиневский вокзал был остановочным пунктом на пути из Румынии в Россию и обратно.
Немногочисленны и другие, еще более редкие свидетельства, сохранившиеся до наших дней. Одно из них – воспоминания Гастона Петера, эльзасца, немецкого солдата, позже румынского пленника, репатриированного во Францию в июле 1917 года. Гастон Петер попал в Румынию в сентябре 1916 года с французского фронта. Из лагеря немецких и австро-венгерских заключенных он был возвращен в строй сотрудниками миссии чехословацкого корпуса и отправлен вместе с другими эльзасцами и лотарингцами в Кишинев. Его свидетельство уникально с нескольких точек зрения. Во-первых, это воспоминания обычного солдата, а не офицера. Во-вторых, его пребывание в Кишиневе продлилось более пяти месяцев и совпало с февральской революцией и концом царского режима.
Немецкий альпийский егерь: от Арагона до Румынии
Гастон Петер появился на свет в августе 1895 года в эльзасской деревне неподалеку от города Рибовилля в имперской земле Эльзас-Лотарингия, входившей с 1871 года в состав Германского рейха. К началу войны ему исполнилось 19 лет. В июне 1915 года в качестве немецкого подданного, Гастон поступил на военное обучение в группу альпийских егерей 77-ого пехотного полка, базировавшегося около Ганновера. Позже он продолжил свое обучение в 10-ом егерском батальоне в городе Госларе, а закончил его в Альпах, в Оберштрауфене, в первой пулеметной роте.
Свое боевое крещение Гастон получил в Арагоне летом 1916 года в составе 14-ого егерского батальона. После вступления Румынии в войну в августе 1916 года, батальон, где служил Гастон Петер, был отозван с французского фронта и отправлен в Трансильванию. В конце сентября 1916 Гастон Петер воюет в трансильванских Карпатах на румыно-венгерской границе со стороны северной конечности перевала Красная башня. Именно здесь в ночь с 28 на 29 сентября 1916 года с еще одним товарищем эльзасцем он был захвачен в плен румынскими войсками, которые к тому моменту потеряли контроль над вершиной перевала. Гастон вспоминал, что шла битва за перевал. Ситуация была критическая:
Свое боевое крещение Гастон получил в Арагоне летом 1916 года в составе 14-ого егерского батальона. После вступления Румынии в войну в августе 1916 года, батальон, где служил Гастон Петер, был отозван с французского фронта и отправлен в Трансильванию. В конце сентября 1916 Гастон Петер воюет в трансильванских Карпатах на румыно-венгерской границе со стороны северной конечности перевала Красная башня. Именно здесь в ночь с 28 на 29 сентября 1916 года с еще одним товарищем эльзасцем он был захвачен в плен румынскими войсками, которые к тому моменту потеряли контроль над вершиной перевала. Гастон вспоминал, что шла битва за перевал. Ситуация была критическая:
фотографии: Национальный музей истории Молдовы
«Румыны непрерывно атаковали, в надежде отвоевать перевал, а нас выставляли вперед в качестве живого щита. Среди нас были и гражданские лица. Немецкой армии так и не удалось окружить перевал. Семь раз мы попадали под сплошной огонь немецких пулеметов, пока не добрались до местечка Кыинень. Многие погибли, в том числе из гражданского населения. Перевал, усыпанный мертвыми телами лошадей, коров, разбитой техникой, ранеными людьми, представлял собой ужасающее зрелище. Несмотря на большие потери и сложности, румыны отчаянно продолжали борьбу. Во многих местах бой шел врукопашную. На моих глазах один румын набросился на немца, стрелявшего со скалы в солдат».
Из Кыйнень, после ряда перипетий, Петер был отправлен поездом в город Крайова. Там на примере румынской армии он соприкасается с порядками, царящими в румынском обществе. Как писал Гастон, классовая принадлежность всюду четко прослеживалась:
«Многие офицеры представали перед солдатами напудренными и даже накрашенными, другие одевали тугие корсеты, чтобы казаться более стройными. Перед ними стояли рекруты - жалкие, одетые в грубую холстину, из которой у нас делают мешки для картофеля. Вместо обуви они носили сандалеты, называемые здесь «опинчи». Одним словом, в то время как рекруты и охранники нищенствовали, офицеры были похожи на звезд оперетты».
 |
 |
 |
страницы отсканированного издания: L'Illustration
В то самое время генерал Анри Бертло был назначен французскими властями главой военной миссии в Румынии, впоследствии более известной как миссия Бертло. Во время переезда из Франции в Румынию, Бертло останавливается в Петрограде. Там он проводит ряд встреч с высокопоставленными дипломатами и политиками, включая царя, а также со своим коллегой из Чрезвычайной французской военной миссии в России генералом Жаненом. До Румынии Бертло добирался через Бессарабию:
«После Тирасполя, Бендер и Кишинева, Бертло и его свита были встречены 15 октября на румынской границе в Унгенах генералом, руководящим регионом, в сопровождении капитана Ване, посланного Жаненом».
Гастон Петер и его товарищи по несчастью в конце 1916 года находились в военных лагерях на румынской территории Молдовы, в городах Текуч и Бырлад. Условия содержания и быта в Румынии военного времени были тяжелыми. Голод и отсутствие гигиены вели к многочисленным смертям. Чтобы сделать свое заключение более сносным, Гастон Петер создает группу из 200 выходцев из Эльзаса и Лотарингии. Когда офицер французской армии чехословацкого происхождения по имени Штефаник прибывает в лагерь, чтобы нанять на службу чехословацких соотечественников, Гастон Петер использует свою эльзасскую принадлежность, чтобы выбраться из плена. Гастона и его товарищей из Эльзаса и Лотарингии передают в распоряжение комитетов освобождения для переправки в Яссы. Гастон так писал об этом:
«На исходе сил мы добрались до Ясс. Там мы нашли приют в сараях и сенохранилищах какой-то черепичной мастерской. Из подчинения румынской охране мы перешли под командование смешанных освободительных комитетов. Город Яссы был переполнен беженцами, многого не хватало, и голод оставался нашим верным спутником. Раз в день мы получали пищу с кухни, по крайней мере горячую, но что именно эта была за пища, определить было невозможно». «После Тирасполя, Бендер и Кишинева, Бертло и его свита были встречены 15 октября на румынской границе в Унгенах генералом, руководящим регионом, в сопровождении капитана Ване, посланного Жаненом».

Рени. Русско-румынская граница 1916 год.
К счастью, остановка в Яссах была недолгой. 14 января 1917 года бывшие военные заключенные прибыли в Россию, в Кишинев. С момента отъезда из Румынии начинается возвращение Гастона во Францию, куда он доберется только спустя шесть месяцев, 23 июля 1917 года. Его пребывание в Кишиневе продлится до июня 1917 года. Здесь Гастон встретит февральскую революцию и смену режима. Его свидетельства собраны спустя десятилетия после тех событий, что объясняет некоторые неточности и анахронизмы. Но при этом его воспоминания являются редкими источниками информации о ситуации в Бессарабии в первой половине 1917 года.
Кишинёв во время февральской революции
Гастон Петер прибыл в Кишинев 14 января 1917 года из Ясс по железной дороге через реку Прут по мосту, построенному Гюставом Эйфелем. В то время мост разделял Румынию и Россию, а в наши дни он служит границей между Румынией и Республикой Молдова.

Гастон Петер в Кишинёве, 1917 год
«… В первый день православного Нового года мы прибыли в Кишинев, столицу Бессарабии. По случаю праздника, в буфетах вокзалов бесплатно раздавали белый хлеб и чай. Русские солдаты и простые граждане отнеслись к нам приветливее румын. Увидев, насколько мы были голодными и истощенными, они пригласили нас разделить с ними трапезу. Мне дали по меньшей мере пять чашек с чаем и пять порций хлеба, белого как снег, какого я никогда не видел. Однако, это удовольствие стоило мне дорого. Голова начала кружиться, пот выступил на лбу. Я почувствовал себя плохо и на несколько минут потерял создание. Тоже самое случилось с большей частью бывших заключенных из Румынии, потому что наши желудки, ослабленные голодом, не могли переварить даже такое небольшое количество еды.
С отрядом русских солдат мы организовали стоянку в большой многоэтажной казарме. Эльзасцев разместили в помещениях на первом этаже около главного входа с видом на улицу. Один из командующих русской армией в Кишиневе, ответственный за снабжение, разделял управление отрядом с французским капитаном, членом французской миссии в России, великолепно говорящим по-русски.
Весть о нашем пребывании в Кишиневе быстро распространилась по городу. Местные жители стали приносить нам фрукты и хлеб. Однажды во дворе казармы я случайно встретил моего чешского переводчика из Ясс. Мы обнялись. Он жил в другом крыле казармы и ничего не знал о дружественных жестах этого любезного народа. Я пригласил его к себе, чтобы и он мог воспользоваться дарами кишиневцев. Он был немного близорук и носил очки. Мой спаситель принял приглашение и перебрался поближе к нам. Но, к сожалению, ему не везло: народ игнорировал его и никогда ничего не давал. Я делился с ним полученными подарками. Когда же я поинтересовался у тех, кто помогал нам, почему они всегда обходят моего товарища, то мне ответили: «Он носит очки, а значит, он капиталист. У нас только господа носят такие очки, а не простой народ».
С отрядом русских солдат мы организовали стоянку в большой многоэтажной казарме. Эльзасцев разместили в помещениях на первом этаже около главного входа с видом на улицу. Один из командующих русской армией в Кишиневе, ответственный за снабжение, разделял управление отрядом с французским капитаном, членом французской миссии в России, великолепно говорящим по-русски.
Весть о нашем пребывании в Кишиневе быстро распространилась по городу. Местные жители стали приносить нам фрукты и хлеб. Однажды во дворе казармы я случайно встретил моего чешского переводчика из Ясс. Мы обнялись. Он жил в другом крыле казармы и ничего не знал о дружественных жестах этого любезного народа. Я пригласил его к себе, чтобы и он мог воспользоваться дарами кишиневцев. Он был немного близорук и носил очки. Мой спаситель принял приглашение и перебрался поближе к нам. Но, к сожалению, ему не везло: народ игнорировал его и никогда ничего не давал. Я делился с ним полученными подарками. Когда же я поинтересовался у тех, кто помогал нам, почему они всегда обходят моего товарища, то мне ответили: «Он носит очки, а значит, он капиталист. У нас только господа носят такие очки, а не простой народ».
Это замечание очень показательно. Оно свидетельствует о важных социальных расслоениях в бессарабском обществе и в целом в России начала ХХ-ого века. Гастон Петер приводит в своих свидетельствах и другие факты, наглядно иллюстрирующие социальные различия. Например, то, что доступ к городскому парку до февральской революции имела только элита. Или то, что высшие слои общества могли распоряжаться своей прислугой, бессарабцами крестьянского происхождения, как хотели. Если для царской России это было привычным делом, выходцу из Западной Европы эти факты бросались в глаза.
«Какое-то время спустя нам разрешили выходить в город. Подаренная нам свобода дала возможность общаться с местным населением, большая часть которого, к нашему большому удивлению, говорила по-румынски. В Кишиневе, который насчитывал тогда более 100 000 жителей, были широкие до 40 метров улицы. Самая известная из них называлась Александровской».

фото: Национальный музей истории Молдовы
«С наступлением зимы выпал снег, который держался здесь дольше, чем у нас. Его расчищали лопатами, и нам было приказано очистить рельсы электрического трамвая, принадлежащего франко-бельгийской компании. Почти ежедневно нас потчевали жирной пищей и вареным ячменем, так называемой кашей, типичной для русского солдата едой. Все это плохо переваривалось нашими желудками, не привыкшими к жирной пище. Особенно тяжело приходилось тем, кто участвовал в румынской военной компании с самого начала. Три четверти из нас заболели, наша казарма опустела, а госпиталь заполнился народом. Из-за недоедания среди нас свирепствовал тиф. Спустя три или четыре недели, когда первые заболевшие стали возвращаться в казарму после лечения, я в свою очередь слег в постель. Когда у меня сильно поднялась температура, один русский крестьянин отвез меня на санях в госпиталь».
В госпитале Гастона Петера разместили с русскими солдатами. Когда все надежды на его выздоровление были потеряны, Гастон начал потихоньку восстанавливаться.
«Именно в тот момент произошло событие, изменившее судьбу России и ее народа. Мы бросились к окнам, кто-то из русских поспешил выбежать на улицу. Военный оркестр играл французский национальный гимн. Сотни солдат с красными ленточками на груди выкрикивали «Революция!». Этот действо продолжалось несколько часов, и после того, как музыка стихла, жизнь вновь пошла своим чередом».

Кишинёв, 10 марта 1917 года.
«В это смутное время мы не могли больше рассчитывать на чешских и польских заключенных. Нам выдали русскую униформу и оружие для защиты на случай, если мародеры будут угрожать нашим запасам. После двух недель неопределенности спокойствие и порядок постепенно восстанавливались. Революция пошла на спад. К власти пришел Керенский. Однако не он, а война определила будущее огромной российской империи.
Все же февральское восстание не прошло бесследно. В Кишиневе большой общественный парк, как уже упоминалось, до сих пор был доступен только представителям высшего общества. Никто не мог зайти на его территорию без специального пропуска. Для рабочего класса вход был запрещен. Однако же после мартовских событий мы и верные нам чехи получили право входить в парк. Время от времени наблюдались скопления народа даже на общественных дорогах, где выступали женщины активистки, призывая солдат выполнять их обязанностях и служить своей стране и своему царю.
Время шло, наступила весна, и мы все чаще задавались вопросом когда же мы сможем вернуться во Францию. Придётся ли нам добираться через Архангельск или Владивосток? В то время меня часто приглашали в еврейские семьи, которые хорошо говорили по-немецки, поскольку торговали с Германией до начала войны.
Хотя спокойствие и порядок, казалось, были восстановлены, революционные волнения продолжали распространяться, даже в комендатуре […].
В Кишиневе была французская диаспора, среди которой были преподаватели, инженеры, директора заводов и сотрудники франко-бельгийского трамвайной компании. Благодаря последней, нам несколько раз удалось сходить в кино.
Французский преподаватель объяснял русским, что эльзасцы и лотарингцы тоже французы. Этот господин пригласил моего товарища Маршала [прим. Маршал - военный соратник Гастона, который, как и он, родом из Эльзаса. Большую часть военного пути они прошли вместе. В 1917 году оба находились в Кишиневе.] и вашего покорного слугу на вечер к себе домой. Хозяйка дома, тоже преподаватель, с удовольствием и не без юмора рассказывала о моем аресте, случившемся из-за схожести моего имени с именем польского офицера Петера Шастека.
Уже много лет я не видел такого богато стола. Он ломился от изобилия блюд. Две восемнадцатилетние бессарабские девушки обслуживали стол, к которому подавался ликер и табак. Из сигарет я особенно оценил румынский сорт Carmen Sylva, которым угостила меня очаровательная хозяйка. Я прикурил свою сигарету от ее, после чего она попросила Маршала и меня впредь считать ее «военной крестной». Разумеется, мы охотно согласились. Пока «крестная» была на кухне, хозяин спросил нас, что мы думаем о двух девушках, которые нас обслуживали. Его интересовала, нравятся ли они нам. «Должно быть у вас давно не было возможности общаться с прекрасным полом», - сказал он. Вы могли бы провести ночь у меня, каждый мог бы выбрать девушку и увести ее к себе в комнату». Тогда я спросил его: «Вы можете распоряжаться ими таким образом и они подчинятся вашему приказу?» Он ответил: «Разумеется!» Хоть я и не хотел быть помехой веселью или читать кому-то морали, я все же спросил у него: «А что случится, если одна из девушек забеременеет?» На что я получил следующий ответ: «Что вы хотите, чтобы случилось? Она покинет наш дом и вернется к себе». Какой менталитет! Я сделал вывод, что моральный упадок коснулся не только царя и его окружение, но и весь имущий класс, можете называть его капиталистическим или материалистическим, как вам будет угодно. Я тепло поблагодарил хозяина, дав ему понять, что его предложение, разумеется, было бы для меня честью, и если бы я испытывал влечение к молодой девушке и она ко мне, то я бы воспользовался им. Но пережив столько страданий за время войны, я не хотел поступать дурно с невинным ребенком. Мне хотелось покинуть Россию с чистой совестью».
Все же февральское восстание не прошло бесследно. В Кишиневе большой общественный парк, как уже упоминалось, до сих пор был доступен только представителям высшего общества. Никто не мог зайти на его территорию без специального пропуска. Для рабочего класса вход был запрещен. Однако же после мартовских событий мы и верные нам чехи получили право входить в парк. Время от времени наблюдались скопления народа даже на общественных дорогах, где выступали женщины активистки, призывая солдат выполнять их обязанностях и служить своей стране и своему царю.
Время шло, наступила весна, и мы все чаще задавались вопросом когда же мы сможем вернуться во Францию. Придётся ли нам добираться через Архангельск или Владивосток? В то время меня часто приглашали в еврейские семьи, которые хорошо говорили по-немецки, поскольку торговали с Германией до начала войны.
Хотя спокойствие и порядок, казалось, были восстановлены, революционные волнения продолжали распространяться, даже в комендатуре […].
В Кишиневе была французская диаспора, среди которой были преподаватели, инженеры, директора заводов и сотрудники франко-бельгийского трамвайной компании. Благодаря последней, нам несколько раз удалось сходить в кино.
Французский преподаватель объяснял русским, что эльзасцы и лотарингцы тоже французы. Этот господин пригласил моего товарища Маршала [прим. Маршал - военный соратник Гастона, который, как и он, родом из Эльзаса. Большую часть военного пути они прошли вместе. В 1917 году оба находились в Кишиневе.] и вашего покорного слугу на вечер к себе домой. Хозяйка дома, тоже преподаватель, с удовольствием и не без юмора рассказывала о моем аресте, случившемся из-за схожести моего имени с именем польского офицера Петера Шастека.
Уже много лет я не видел такого богато стола. Он ломился от изобилия блюд. Две восемнадцатилетние бессарабские девушки обслуживали стол, к которому подавался ликер и табак. Из сигарет я особенно оценил румынский сорт Carmen Sylva, которым угостила меня очаровательная хозяйка. Я прикурил свою сигарету от ее, после чего она попросила Маршала и меня впредь считать ее «военной крестной». Разумеется, мы охотно согласились. Пока «крестная» была на кухне, хозяин спросил нас, что мы думаем о двух девушках, которые нас обслуживали. Его интересовала, нравятся ли они нам. «Должно быть у вас давно не было возможности общаться с прекрасным полом», - сказал он. Вы могли бы провести ночь у меня, каждый мог бы выбрать девушку и увести ее к себе в комнату». Тогда я спросил его: «Вы можете распоряжаться ими таким образом и они подчинятся вашему приказу?» Он ответил: «Разумеется!» Хоть я и не хотел быть помехой веселью или читать кому-то морали, я все же спросил у него: «А что случится, если одна из девушек забеременеет?» На что я получил следующий ответ: «Что вы хотите, чтобы случилось? Она покинет наш дом и вернется к себе». Какой менталитет! Я сделал вывод, что моральный упадок коснулся не только царя и его окружение, но и весь имущий класс, можете называть его капиталистическим или материалистическим, как вам будет угодно. Я тепло поблагодарил хозяина, дав ему понять, что его предложение, разумеется, было бы для меня честью, и если бы я испытывал влечение к молодой девушке и она ко мне, то я бы воспользовался им. Но пережив столько страданий за время войны, я не хотел поступать дурно с невинным ребенком. Мне хотелось покинуть Россию с чистой совестью».
В итоге, за такое отношение Гастон Петер был вознагражден «крестной» десятью золотыми монетами на Пасху.
«После мартовских событий в тавернах больше не подавали спиртное, только чай. На продажу вина была установлена государственная монополия, а само вино хранилось в больших погребах. Несколько эльзасцев были призваны на мытье винных бочек». Не прошло и трех дней, как их задержали в пьяном виде, горланящих немецкие песни на улицах Кишинева.
«Проблемы с дисциплиной и снабжением в Кишиневе были предвестниками грядущих потрясений. В один день казарму поступал белый, как никогда хлеб, несколькими днями позже - черный, который я никогда в своей жизни не видел, но который все же был съедобным. В Румынии было хуже, хлеба там иногда не было по три недели.
Наконец, нам сообщили, что вскоре мы отправимся в путь. Нам вернули наши удостоверения личности с фотографиями, сделанными несколько месяцев назад. По этим документам мы числились военнопленными, что успокоило многих из нас. Несмотря на то, что мы были причислены к войскам союзников добровольно, для французских властей мы продолжали оставались заключенными. Эти «удостоверения личности» содержали следующую пометку на французском языке: «Комитет защиты военных заключенных эльзасцев и лотарингцев, под патронатом посольства Франции в России». На обратной стороне находилась надпись на русском языке […].
До момента моих последних заметок, 19 мая 1917 года, все были уверены, что Керенский сумеет подавить революцию, и что монархия будет сохранена. Но все сложилось иначе: до нас часто доходили разговоры о постоянных войсках и о всемирной революции. Местные французы и бельгийцы опасались за свою жизнь. Их ситуация была неопределенной. Они как иностранцы и, к тому же, владельцы электрических трамваев или других предприятий, вскоре стали мишенью восставшей толпы, жаждущей достойной жизни вместо той нищеты, в которой они существовали. Как и в Румынии, среднего класса здесь просто не было».
«Проблемы с дисциплиной и снабжением в Кишиневе были предвестниками грядущих потрясений. В один день казарму поступал белый, как никогда хлеб, несколькими днями позже - черный, который я никогда в своей жизни не видел, но который все же был съедобным. В Румынии было хуже, хлеба там иногда не было по три недели.
Наконец, нам сообщили, что вскоре мы отправимся в путь. Нам вернули наши удостоверения личности с фотографиями, сделанными несколько месяцев назад. По этим документам мы числились военнопленными, что успокоило многих из нас. Несмотря на то, что мы были причислены к войскам союзников добровольно, для французских властей мы продолжали оставались заключенными. Эти «удостоверения личности» содержали следующую пометку на французском языке: «Комитет защиты военных заключенных эльзасцев и лотарингцев, под патронатом посольства Франции в России». На обратной стороне находилась надпись на русском языке […].
До момента моих последних заметок, 19 мая 1917 года, все были уверены, что Керенский сумеет подавить революцию, и что монархия будет сохранена. Но все сложилось иначе: до нас часто доходили разговоры о постоянных войсках и о всемирной революции. Местные французы и бельгийцы опасались за свою жизнь. Их ситуация была неопределенной. Они как иностранцы и, к тому же, владельцы электрических трамваев или других предприятий, вскоре стали мишенью восставшей толпы, жаждущей достойной жизни вместо той нищеты, в которой они существовали. Как и в Румынии, среднего класса здесь просто не было».
Французская военная миссия в России должна была как можно скорее эвакуировать эльзасцев и лотарингцев, а также тех, кто находился с ними в плену, в том числе выходцев из Чехословакии. Гастон Петер писал, что многие из них присоединились к революционерам и активно участвовали в создании нового социального строя в России. В начале лета 1917 года нельзя было упустить возможность выехать в Западную Европу через север России. Это был единственно доступный путь, поскольку проливы Босфор и Дарданеллы контролировались Турцией, воюющей на стороне Тройственного Союза.
открытки военного времени: Национальный музей истории Молдовы
«Со страхом и надеждой мы получили приказ об отправлении в Архангельск, самый северный в мире порт, который только три месяца в году был свободен ото льда. Нас перевезли туда в больших товарных вагонах. Не помню точно, когда это было, скорее всего в середине июня. Нас оставалось не больше тысячи, многие умерли от болезней, несколько сотен перешли на сторону революционеров. Мы проехали через всю Россию - от севера до юга, из Кишинева через Киев и Калугу до Москвы. Наш переезд занял десять дней, поскольку на нескольких станциях конвой простаивал часами, а на большей части дороги линия имела лишь один путь. На протяжении всей поездки была прекрасная погода, светило яркое солнце, отражающееся вдалеке в позолоченных куполах церквей».
Путь возвращения во Францию через Архангельский порт был тот же, по которому эвакуировались из Румынии во Францию члены миссии Бертло весной 1918 года и который был пройденный ими в 1916 году. Однако в тот год переход был намного опаснее и рискованнее. Гражданской войной была охвачена вся территория Украины и европейской части России. Переход через Украину, оккупированную силами Тройственного Союза и Россией в 1918 году, было дело не из легких. К счастью, это не коснулось Гастона Петера, который благополучно пересек Россию с мыслями о скором окончании своей солдатской службы.
Эпилог
Так в июне 1917 года закончилось пребывание в Бессарабии Гастона Петера. 23 июля 1917 года в русской униформе он высадился во Франции в порту Рошель. Мобилизованный, как и его соотечественники, в качестве солдата немецкого рейха, он закончил войну во Франции рабочим на металлургическом заводе в области Сант-Этьен. Его свидетельства о жизни в Кишиневе в 1917 году позволяют воссоздать обстановку вблизи линии фронта. Они содержат информацию социологического плана, редко упоминающуюся в других источниках. Как было указано выше, эти воспоминания были опубликованы десятилетия после описываемых событий. Конечно же в них прослеживается влияние политических событий, имевших место в России в более поздний период, и о которых Гастон Петер несомненно знал. Тем не менее, это ни в коей мере не умаляет ценность его свидетельств.
Автор описывает современный город, в котором есть электрический трамвай, вокзал и кинотеатр, широкие бульвары, военные казармы, и его жителей - русский и / или русскоговорящий господствующий класс, основное румыноязычное население, еврейская община и небольшая иностранная диаспора. Накануне Октябрьской революции он пишет, что социальные различия в Бессарабии, как и во всей России, были очень существенными. Восстание зародилось не столько на почве войны, сколько было вызвано глубоким социальным расслоением общества, которое, в отличие от европейских народов, входивших с войной в индустриальную современность, во многом оставалось архаичным.
Автор описывает современный город, в котором есть электрический трамвай, вокзал и кинотеатр, широкие бульвары, военные казармы, и его жителей - русский и / или русскоговорящий господствующий класс, основное румыноязычное население, еврейская община и небольшая иностранная диаспора. Накануне Октябрьской революции он пишет, что социальные различия в Бессарабии, как и во всей России, были очень существенными. Восстание зародилось не столько на почве войны, сколько было вызвано глубоким социальным расслоением общества, которое, в отличие от европейских народов, входивших с войной в индустриальную современность, во многом оставалось архаичным.
Автор: Фабьен Шаффер (Fabien Schaeffer), историк.
Франция, 2017 год
Перевод: Е. Яковлева/ М. Левченко
Франция, 2017 год
Перевод: Е. Яковлева/ М. Левченко
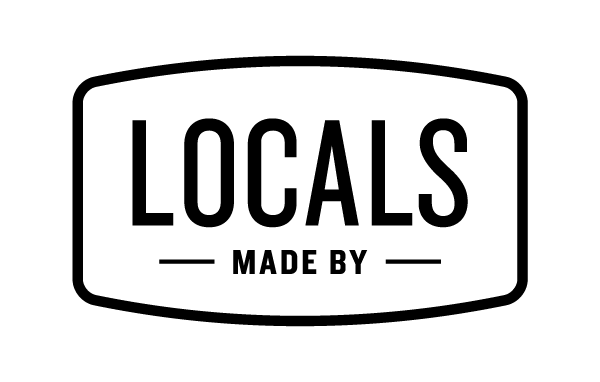
© 2017 All Right Reserved. locals.md
